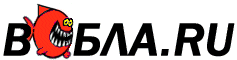28 января 2009 года. 09:16
Милиционер и меломан
Геннадий Малышев вспоминает Череповец 80-х
Широкомасштабное празднование 200летия Череповца; футбол на стадионе после смены; стройки, на которые присылали условно осужденных; музыкальные вечера в кафе «Фрегат»… Эти черты нашего города 80х годов прошлого века помнят многие череповчане того поколения, к которому принадлежит Геннадий Малышев, директор череповецкой спасательной службы. Кафе «Фрегат» не случайно стало для него одной из примет тех лет: здесь он когдато был, как бы сейчас сказали, дискжокеем, здесь познакомился с девушкой, которая потом стала его женой. Нет сегодня на карте города такого заведения общественного питания, но осталась некогда установленная перед ним статуя, изображающая девушку с парусником на ладони, которую в народе прозвали Ассоль (на фото). О том, что значил «Фрегат» для молодежи тех лет, и других реалиях Череповца 80х рассказывает Геннадий Малышев.
Мы продолжаем начатый в декабре прошлого года ретропроект, в котором горожане вспоминают Череповец своей молодости — 70 — 90х годов прошлого века. И сколько людей — столько и образов города: у каждого свои воспоминания, связанные с работой, увлечениями, дорогими и памятными местами, свои приметы времени. Сегодня воспоминаниями делится директор МУ «СпаС» Геннадий МАЛЫШЕВ.
Помню, с каким размахом праздновали в 1977 году двухсотлетие Череповца. Торжества проходили несколько дней, было множество мероприятий, город был украшен. Многие, наверное, помнят, как однажды утром вышли из дома, а асфальт улиц, проезжая часть, тротуары во дворах и на площадях — все было исписано радостными приветствиями, типа: «Здравствуй, солнце! Жизнь, здравствуй!». Молодежь постаралась.
Мне тоже довелось участвовать в этом празднике. Я был в составе группы спортсменов, участвовавших по случаю юбилея в пробеге по маршруту Череповец — Белозерск — Кириллов — Вологда — Шексна — Череповец. Вместе с череповецкими спортсменами бежали ребята из Питера, Иванова, Ярославля. Нас сопровождал всю дорогу автобус с приветственным транспарантом: «Череповцу — 200 лет». На всем пути группу торжественно встречали. Так народ из других городов, сел, деревень участвовал в празднике Череповца, общее приподнятое настроение создавалось. В Вологде, например, был митинг на центральной площади. Нас приветствовала Зинаида Александровна Усова, тогда она была председателем областного спорткомитета. А завершался пробег в Череповце в день торжества. Пробежав по улицам города, где нас горячо приветствовал народ, мы под шквал аплодисментов вбежали на стадион «Металлург». Чувство осталось такое, будто на Олимпиаде побывал!
Спортом занимался всегда: кандидат в мастера спорта по лыжам и биатлону. Мы, старшие спортсмены, занимались с мальчишками, с подростками, приобщали их к занятиям физкультурой и спортом. Для этого в городе были все возможности. На стадионе «Металлург» были открытые площадки — волейбольные, баскетбольные, городошные. И они никогда не пустовали. Со смены целыми бригадами приходили, турниры были по минифутболу и прочие соревнования, вплоть до перетягивания каната. Пацанят собирали, проводили соревнования дворовых команд, а футбольные клубы и площадки были в каждом микрорайоне. Поэтому городской турнир «Кожаный мяч» был так популярен среди молодежи.
Стадион «Строитель» тоже был в прекрасном состоянии, и мы его даже больше любили — зелень вокруг, парк рядом. Там были отличные игровые площадки, зал хороший, тир, футбольная школа работала. Стадионы были ведомственные; несмотря на это, не только работники предприятий, но и любой желающий — все могли взять напрокат инвентарь, спортивную форму. Паспорт предъявляй и бери. И все бесплатно!
Моему внуку семь лет, занимается хоккеем, приобрели ему форму недавно, потратили 15 тысяч. А через годдва уже новая потребуется. Хорошо бы, чтобы возможность проката спортинвентаря возобновилась, надо, чтобы для самых маленьких занятия спортом были бесплатными, чтобы каждая семья могла себе это позволить.
В 1979 году мы с моей супругой Ларисой сыграли свадьбу, и я из общежития перебрался в квартиру родителей жены. Жили на Первомайской, в старом двухэтажном доме. Комнатка да кухонька, печка углем топилась, на плите готовили. Совсем не престижное жилье, а нам казалось — верх комфорта. Отдельная квартира! До этого я жил в общежитии на Краснодонцев, и хотя был председателем совета общежития и комната была на одного, но разве сравнишь с отдельной квартирой. В общежитии и шум, и соседей буйных приходилось успокаивать, а тут свое гнездо. В 1980 году семья увеличилась — родили первого сына, а в 1984м — второго. По времени создание семьи и обретение профессии совпали.
На работу в органы внутренних дел меня рекомендовали по комсомольской путевке в 1979 году. Может, оттого, что приходилось наводить временами порядок в общежитии, даже силу применять против пьяниц и дебоширов, а может, и оттого еще, что приходилось и раньше на общественных началах заниматься охраной общественного порядка, работать в городском оперативном комсомольском отряде, я выбрал для себя такую профессиональную судьбу. Когда мне поступило это предложение, я работал на сталепрокатном заводе и получал 220 рублей — хорошая зарплата по тем временам. Но задал себе вопрос: кто же, если не я? Кто должен наводить порядок в моем городе? Ни о какой карьере и не думал тогда, просто почувствовал призвание, что ли, ответственность.
Идея противостояния злу заставляла брать ответственность на себя. Забота о безопасности города вела на работу, чтобы наши дети могли спокойно гулять во дворе, заниматься спортом, жить. И, конечно, авторитет старших товарищей сыграл роль. Помню Валентину Витальевну Карасеву, старшего инспектора отдела кадров УВД, ее советы и напутствия, когда только пришел на службу, и поддержку Виктора Витальевича Канина, в то время заместителя начальника спецкомендатуры.
Первая моя должность была дежурный помощник начальника спецкомендатуры с окладом 87 рублей. Благо, что жена работала на заводе и хорошо получала. Но поскольку мужик должен нести ответственность за семью, то, когда сын родился, пришлось и на шабашки бегать — вагоны разгружать, и квартиры ремонтировать.
Спецкомендатура — для нашего города особая тема. И работа в спецкомендатуре — служба особая.
Контингент здесь был особый — уголовники. У нас в городе их были тысячи. Привозили их сюда по условнодосрочному освобождению для работы на стройках, как дешевую рабочую силу. Строительство велось в городе громадное, рабочих рук не хватало, поэтому шли на такие меры, даже в ущерб безопасности. Контроль за нашими подопечными требовался строжайший, меры приходилось принимать самые жесткие, чтобы держать дисциплину.
В общежитиях был строгий пропускной режим, выводили только на работу, смену отработал, обратно привезут — и до утра на замке. Не заключенные, потому что по решению суда освобождены, например, за хорошее поведение, но свобода ограничена, так как срок продолжается в виде принудительного труда. Колючей проволоки нет, но увольнение строго по часам и только по разрешению начальства. И на промплощадке работа тоже под надзором была организована. Многих надо было заставлять работать, но были и такие, кто ради освобождения трудился ударно, а некоторые и бригадирами становились или мастерами.
Но все же спецконтингент — для города это была большая головная боль. Такое количество людей с криминальным прошлым было собрано сюда, и не просто людей судимых, а имевших лагерный опыт и усвоивших блатной образ жизни. И все эти люди жили в черте города. Необходимо было держать такой уровень дисциплины, чтобы создать гарантию безопасности для гражданского населения. Такая работа требовала собранности и выдержки. Ведь приходилось дело иметь не просто с уголовниками, а часто с рецидивистами.
Но и здесь своя жизнь была. Весь состав комендатуры делился на отряды. В отрядах складывались какието коллективы, даже общественная работа была. Кто старался свой срок сократить, даже стенгазеты выпускали, концерты проводили, все общественные поручения выполняли. И спортивные соревнования проводили, и на экскурсии вывозили, читать заставляли, библиотеки были в общежитиях.
Кроме комендатур со спецконтингентом были в городе и военностроительные отряды, воинские подразделения, состоявшие из солдатсрочников, которые всю службу проводили не с винтовкой, а с лопатой. Были среди них и судимые, состав тоже — не интеллигенты в белых воротничках, всего можно было ждать, требовался контроль. Численность военных строителей в городе была около пяти тысяч. Стояли эти части в Ясной Поляне, в Панькино, на Чкалова был отряд, в Веретье.
Все эти работники делали самую грязную или тяжелую, непрестижную работу, такую же, как сейчас гастарбайтеры. Большинство, конечно, отбыв срок, разъехались по домам, но очень многие и остались. Народ был молодой, и в самоволку ходили, и женские общежития осаждали, женились, семьи создавали. И зачастую привычки и негативный образ жизни, формы межличностного общения, принятые в уголовной среде, через них усваивали семья и окружение. Так многие социальные группы подвергались негативному влиянию, что создало в дальнейшем основу для бытовой преступности. И до сих пор в городе много проблем, связанных с низким уровнем общей культуры, отсутствием понятия о нормах достойного гражданского поведения.
Карьеру в милиции делать не старался, все сложилось както само собой. Сначала дали звездочку — младший лейтенант. А чтобы следующую получить — надо было учиться. Поступил в Школу милиции. Со временем назначили заместителем командира батальона ППС, отвечал за работу с личным составом. Время бежит незаметно, столько уже за плечами… За 28 лет службы в органах имею лишь два замечания, не по своей непосредственной вине, а за ошибочные действия подчиненных, и более ста поощрений различного характера, не считая наград.
Чечня — тема особая и тяжелая. Думаю, потребуется еще немало лет, чтобы внести разумное и рациональное зерно в накопившиеся кавказские проблемы. В течение нескольких последних десятилетий, к сожалению, огонь конфликтов никак не утихает. 2,5 тысячи наших земляков — череповецких ребят — прошли Чечню, Афган и прочие горячие точки. К сожалению, не все вернулись. Вечная им память.
Вспоминая старый город, мой, который я помню и люблю, хочется вспомнить еще одну тему, которая, может быть, комуто покажется близкой. Тема эта — меломания. Ведь это целый пласт нашей отечественной культуры — первые вокальноинструментальные ансамбли, «лабухи», ресторанный вокал. Я сам, было время, вел музыкальные вечера (прообраз современных дискотек) в легендарном кафе «Фрегат». Было такое молодежное кафе в нашем городе. На вечерах во «Фрегате», куда не такто просто было попасть, пели Саша Соловьев, братья Терентьевы, Коля Носков, Саша Гоппе. Так что кафе «Фрегат» в свое время было очень популярным местом. Кстати, там я и познакомился со своей женой. А специальность моя музыкальная называлась дискжокей. Музыкой увлекался, собирал фонотеку. Тогда достать хорошую пластинку или пленку магнитофонную — это целая проблема! Ездили в столицу, перекупали с рук. Чтобы знать, что новенького завозят в «Голубой экран», надо было познакомиться с продавщицей отдела «Грампластинки», а чтобы достать хороший магнитофон — носить шоколадки в «Радиотовары». Только танцы под магнитофон — это одно, но когда Саша Гоппе пел в стиле цыганского романса «Сгорая, плачут, плачут свечи…» — это было чтото…
Ирина Нечаева
№14(22424)
28.01.2009

Цена проезда в Вологде подорожала за три месяца на 19 процентов при оплате безналом
С 1 января одна поездка на муниципальном автобусе или троллейбусе обходится в 44 рубля →
01 дек 2025, 12:59
Это прорыв. Сегодня вечером более шестисот домов в Вологде отключат от теплоснабжения
30 ноя 2025, 01:23